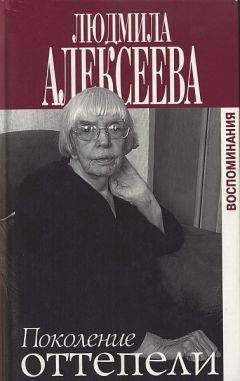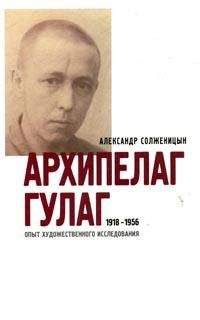Через несколько дней Якоб и Фрида помогли мне снять комнату в избе у одинокой хозяйки. Очень скоро я и работу нашёл — устроился грузчиком в сельпо. Работа эта мне даже нравилась. Мужское всё-таки занятие.
Через месяц ко мне из Петербурга приехала Лена. Жизнь кое-как налаживалась. Но пришла зима. Работа грузчика сельпо — это работа на улице. Дал о себе знать давний мой спондилёз. Пришлось уйти. Помочь с устройством на новую работу никто из надзирающего начальства не собирался. Пришлось жаловаться в Москву, в ЦК — пусть помогают с трудоустройством, соблюдают хоть собственные законы. В конце концов, мне предложили место страхового агента — ездить по дальним сибирским деревушкам, страховать людей, их имущество, скотину, дома. Так до конца ссылки я этим и занимался.
Как ни странно, но Сибирь мы с Леной полюбили. Вот стихотворение — воспоминание о Сибири:
А Курагино моё всё в снегу,
А Туба моя недвижна, бела,
Жёсткий холод её взял на бегу
Под уздцы, с тех пор стоит, замерла.
И заснежен вдалеке березняк,
В нём с коровами не бродит пастух,
Вороньё там о каких-то вестях,
Знай, раскаркалось, летит во весь дух.
А Курагино моё далеко,
Сам не знаю, доберусь ли когда.
Вспоминать сегодня сладко, легко,
А была ведь это ссылка, беда.
Вернулись мы с Леной домой, в Ленинград 7 декабря 1974 года. День был тёмный, как всегда в Ленинграде в декабре, но мы радовались. Первые недели просто глядели вокруг, заново узнавая на годы потерянный город.
Но вернулся я не только к родителям, к друзьям. Большой Дом высился на своём месте, и его хозяева тоже никуда не делись. Их злобную руку я почувствовал сразу, когда пришлось восстанавливать прописку. Мы пришли с папой в ЖАКТ, и мне пытались отказать. В конце концов, прописали временно, на год. Меня — покинувшего родной город по чужой воле, насильственно. Я попытался получить свой приговор — не дали. Словно боялись чего-то. Надо было устраиваться на работу. Опять старая история — везде от ворот поворот. Снова пришлось писать в Москву, требовать соблюдения существующих законов. После месяцев ожидания, нервотрепки наконец, получил я место экспедитора на канцелярском складе на Социалистической улице, близко от 321-й школы, весьма мне знакомой.
Работа грошовая. Сидели мы в подвале, я ездил за товаром, заказывал контейнеры в Шушарах, общался с грузчиками, шофёрами, видел, как ловчили работники склада. Одно радовало — кроме канцелярии, привозили к нам и хорошие книги, которые всё советское время были дефицитом. Я, естественно, доставал новинки поэзии, да и не только поэзии.
Стихи не оставляли меня, а вот друзей стало меньше. Коля Браун был ещё в лагере, Андрей Бабушкин тяжко и безвозвратно спивался. Он после всей этой истории потерял работу, диссертацию ему зарубили, на литературе он поставил крест. Где-то работал прорабом, свою ценную библиотеку продавал. Ещё одна жертва власти, помыкавшей нами. Оставался Витя Стукин, верный друг, мужественно проявивший себя во время моего процесса.
У Лены среди её подружек по театральному институту была милая умная женщина — Марина Тимченко. Она несколько раз провожала Лену на суд, однажды видела меня, когда из «воронка» вели конвойные. У Марины был друг — талантливый учёный-физик Леонид Рикенглаз. Мне кажется, учёные России, лучший из которых Андрей Дмитриевич Сахаров, были в то время главным противовесом невежественному, самонадеянному режиму. На свою беду, он вырастил их, думая милитаристским своим умом, что они-то его опора, а вышло не так. Лёня был один из таких физиков-лириков, по слову Бориса Слуцкого. Он любил поэзию, литературу, искусство, особенно историю. Мы сразу подружились. Это было так важно для меня в моём тогдашнем безлюдьи. Наши разговоры о судьбах страны, мира, искусства, о моих стихах, прозе помогали держаться на плаву.
В Москве жили две замечательные подруги Лены — Света и Ляля (на самом деле звали её Лена, но так уж повелось — Ляля и Ляля). Умные, привлекательные женщины, они и между собой дружили, и когда я вернулся, приняли меня в свой круг. Света особенно любила поэзию, знала некоторых московских поэтов. В Москве мы всегда были желанными гостями.
Моя Лена старалась вытащить меня из моего поэтического одиночества. Не очень-то это удавалось — такова уж, видно, моя природа, воистину по Тютчеву: «Молчи, и бойся, и таи…» Но всё же порой что-то получалось. Однажды она уговорила меня вот так, прямо с улицы, без звонка зайти к литературному критику Бенедикту Сарнову, которого мы знали только по его статьям и выступлениям. Надо отдать ему должное, он принял нас, незнакомых людей, несколько часов разговаривал с нами, читал мои стихи. Это был человек среднего роста в крупных очках, во всём его облике сквозила какая-то уверенность интеллекта. Твёрдость его суждений убеждала. Он обещал помочь в печатаньи моих стихов, предупредив, что в редакции журналов не вхож. Прощаясь, он сказал: «Ваши стихи — это порода, в которой много золота. Есть и шлак, но он есть и у великих. Вы будете писать всё лучше и лучше, но печатать Вас не будут во многом и по этой причине. Я смотрю на моего друга Олега Чухонцева и вижу, что его постигает такая судьба. Но писать Вы будете всё равно». Мы с Леной храним благодарные воспоминания об этой встрече.
В 1990 году, когда в Москве вышла моя первая книга стихов «Подсудимые песни», я послал её Сарнову, но, увы, ответа не дождался. Впрочем, и на том, что было — спасибо.
Вообще за эти годы в моём поэтическом становлении много чего произошло. Ещё в юности Коля Браун открыл мне поэзию Владислава Ходасевича, и тот стал самым моим поэтом. Конечно, мне нравились многие лирические стихи Евтушенко, Ахмадуллиной, мало что Вознесенского. Доходили до нас и какие-то строки Бродского. Открылось чудо поздних стихов Пастернака. Я почувствовал, что линия Ходасевича, позднего Пастернака — моя, и что с этой дороги я не сверну. Разумеется, я читал и Арсения Тарковского, восхищался его отличным русским языком, умелой лёгкостью, что-то нравилось у Самойлова, у Юнны Мориц, у того же Чухонцева. А с печатаньем совсем не получалось. Журналы меня отвергали, а о книжке стихов и речи не шло.
Кто-то в Ленинграде посоветовал мне показаться поэтессе Наталье Грудининой, которая помогала Бродскому, защищала его. Наталья Иосифовна — женщина чудесная, поэтическая детскость уживалась в ней с острым умом провидца, мужество и сильный характер с подлинной честностью и добрым отношением к людям, что дано совместить немногим. Ей нравились мои стихи, она говорила: «Ты вдохновенный поэт, твои книги нужны читателям, но не нужны издателям, поэтому напечататься тебе трудно. Для русских ты еврей, который пишет о России лучше их и чувствует её глубже, значит, особенно неприемлем. Для евреев ты слишком русский в стихах, и поэтому тоже неприемлем. Такая у тебя судьба».
![Анатолий Бергер - Горесть неизреченная [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/36975/36975.jpg)